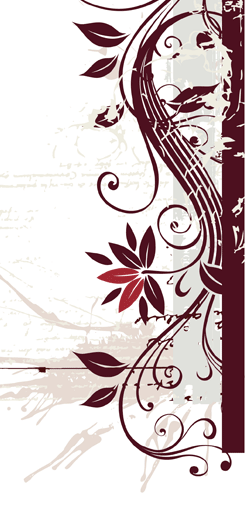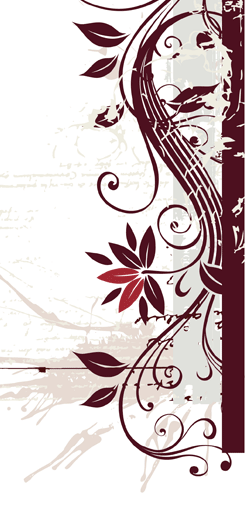Софисты появились впервые в колониях и Восточной Греции, а
потом наводнили Афины, где их принимали с распростертыми объятиями. Ксенофан
или Пифагор были наставниками и энтузиастами своего учения, мысль о
преподавании как ремесле была чужда им. Но софисты, люди вполне деловые, не
стеснялись брать плату за труд и часто обогащались за счет учеников. Платон
впоследствии язвительно говорил, что они «торгуют мудростью оптом и в розницу».
Хотя эти новые «мудрецы» ставили себе задачи чисто
прикладные, у многих из них выработались свои, независимые философские взгляды.
Они имели разные оттенки, но в одном софисты были единодушны: в недоверии к
возможностям человека до конца познать истину.
* * *
Наиболее выдающимся среди софистов-мыслителей был
соотечественник Демокрита Протагор Абдерский (481—411). Он одним из первых со
всей ясностью поставил вопрос не о бытии, а о субъекте, его познающем. Человек
имеет дело лишь со своими ощущениями, и, следовательно, они и есть единственный
критерий истины. Протагор не хотел этим сказать, что чувства правильно
информируют нас о реальности, но он просто выбросил вопрос о ней за борт.
Чувственное восприятие, говорили натурфилософы, порождает лишь псевдознание,
«мнение». Пусть так, соглашался Протагор, и да будет «мнение» единственным
нашим достоянием.
Протагор отбрасывает любые космологии, построенные
умозрительным путем. Атомы, Логос, Нус — все это проблематично, в
действительности мы имеем дело лишь с тем, что прямо соприкасается с нами.
«Человек есть мера всех вещей, существующих, как существующих, и
несуществующих, как несуществующих» — вот его философское кредо (2). Он бы мог
стать предшественником Канта, если бы в своем релятивизме не дошел до последней
черты, усомнившись во всем, даже в закономерностях субъективного мира. По его
мнению, каждый человек есть мера вещей и истинно то, что он ощущает. Это уже
ближе к учению Давида Юма. Протагор ссылался на то, что нет людей, одинаково
воспринимающих мир: одному ветер может показаться холодным, другому — нет.
Следовательно, реальностей столько, сколько воспринимающих людей. И текучесть,
и постоянство — это лишь наши представления. Действительна только та вселенная,
которая создана каждым для себя (3).
Это было отрицание любой метафизики и любой достоверности,
кроме прихотливого «мнения».
Протагор не дал себе труда задуматься над вопросом: как
возможно было бы общение и взаимопонимание между людьми, если каждый индивидуум
есть «мера вещей»? Он оставил в стороне особенности процесса, который порождает
ощущения, и игнорировал тот факт, что беспорядочная масса субъективных чувств
никогда бы не стала связной картиной, не будь она организована интеллектом.
Но слушатели Протагора на первых порах не замечали этих
пробелов в его учении. Им импонировал его смелый подход к философским проблемам
и отказ от всяческих схем. Протагор позволял сомневаться решительно во всем и
даже требовал этого. Вместо, казалось бы, бесплодных фантазий он предлагал
изящную диалектику, занимательную, практически полезную, полную остроумия и
вольномыслия.
В Афинах этот капризный скепсис неожиданно приобрел большую
популярность. Шла многолетняя и изнурительная война. Она питала у подрастающего
поколения чувство недоверия к прописным истинам и сознание непрочности всего в
мире. Дух осмеяния и критики усилился как никогда (4). Многим нравилось, что
Протагор не колеблясь распространяет свои сомнения и на гражданские устои. Он
утверждал, что законы — это не священная общеобязательная истина, а
человеческие изобретения, полные ошибок и несовершенства. Он первый выдвинул
принцип политического «макиавеллизма»: по его словам, что каждому государству
кажется справедливым и прекрасным, то и существует для него как таковое (5).
Этим оправдывался принцип пользы и нравственной изворотливости. Раз не
существует устойчивой истины — нет и критерия для добра и зла. Недаром
Алкивиад, стяжавший печальную славу целой цепью измен, был внимательным
слушателем Протагора.
Словесные турниры философа собирали массу слушателей и
участников. Дом, где он вел беседы, был постоянно наполнен народом. Афиняне,
падкие на подобного рода словопрения, старались не пропустить ни одного
диспута. Особенно привлекали они знатную молодежь.
Софисты, однако, оказали невольную услугу греческой мысли,
расшатав привычные каноны мышления, изощрив искусство анализа, но в итоге они
пришли к самоотрицанию философии. И это было вполне закономерно. Раз
действительность испарилась, зачем вообще нужны рассуждения о мире и
последовательный взгляд на вещи? Главное — это подбирать наиболее убедительные
и красивые аргументы в споре, чтобы суметь защитить любой тезис. Все сводится к
методу изложения. Софисты недвусмысленно называли его «гражданской наукой» и
очень часто в спорах стремились лишь запутать противника (8). Ведь если истины
нет, то важнее всего одержать верх в словопрениях.
Говорят, что сам Горгий под конец жизни совершенно забросил
занятия философией и целиком отдался ораторскому искусству.
Они старались привлечь к себе внимание толпы, прибегали к
разным трюкам, нападали друг на друга, одержимые духом конкуренции и
стяжательства. Понятно, почему Платон считал, что софистом быть стыдно.
Деятельность софистов подорвала и без того уже шаткие устои
веры и гражданского порядка. Смуты военного времени и соперничество партий
довершили дело. Поэтому годы, когда впервые выступил Сократ, были отмечены в
Афинах разбродом и растерянностью умов.
|