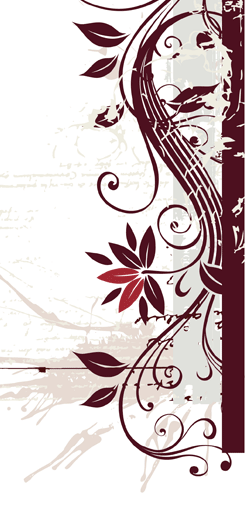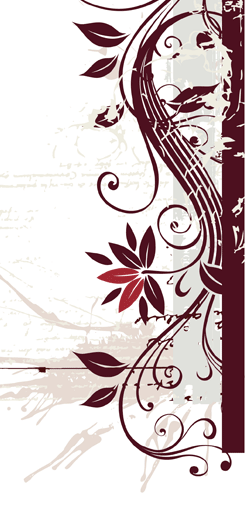|
Кант
об отношении красоты и нравственности
Для того, чтобы
доказать реальность наших понятий, всегда требуется созерцание. Если
это эмпирические понятия,
то созерцания называют примерами. Если это чисто рассудочные понятия, их
называют схемами. Если же требуют, чтобы была доказана объективная реальность
понятий разума, то есть идей, причем для ихтеоретического познания, то желают
невозможного, потому что дать соответствующее им созерцание невозможно.
Всякая гипотипоза
(изображение subiectio sub adspectum) как чувственное воплощение двояка: она
либо схематична, если понятию, которое постигается рассудком, дается
соответствующее априорное созерцание; либо символична, если под понятие,
которое может мыслить только разум и которому не может соответствовать
чувственное созерцание, подводится такое созерцание, при котором действия
способности суждения лишь по аналогии совпадают с тем, что она наблюдает в
схематизации, другими словами, совпадают с ним лишь по правилу этих действий, а
не по самому созерцанию, следовательно, лишь по форме рефлексии, а не по
содержанию.
Хотя среди новых
логиков и принято применять слово символический в его противопоставлении
интуитивному способу представления, но это искажает его смысл и не правильно,
ибо символическое есть лишь разновидность интуитивного. Интуитивный способ
представления может быть разделен на схематический и символический способы.
Оба они гипотипозы, то
есть изображения (exhibitiones), а не просто характеристики, то есть
обозначения понятий посредством сопутствующих чувственных знаков, которые не
содержат ничего принадлежащего к созерцанию объекта, а служат им лишь средством
репродуцирования по присущему воображению закону ассоциации, тем самым с
субъективным намерением; таковы либо слова, либо зримые (алгебраические, даже
мимические) знаки в качестве выражений для понятий*.
* Интуитивное в познании следует
противопоставлять дискурсивному (а не символическому). Первое — либо схематично
посредством демонстрации, либо символично как представление только по аналогии.
Следовательно, все
созерцания, которые подводятся под априорные понятия, — либо схемы, либо
символы; первые из них содержат прямые, вторые — косвенные изображения понятий.
Первые действуют посредством демонстрации, вторые — посредством аналогии (для
чего пользуются и эмпирическими созерцаниями), в которой способность суждения
выполняет два дела: во-первых, применяет понятие к предмету чувственного
созерцания; во-вторых, правило рефлексии об этом созерцании — к совершенно другому
предмету, для которого первый только символ. Так, монархическое государство,
если оно подчинено внутренним народным законам, представляют в виде одушевленного
тела, если же в нем господствует единичная абсолютная воля — просто как машину
(например, ручную мельницу), но в обоих случаях это представление символично.
Между деспотическим государством и ручной мельницей, правда, нет сходства, но
сходство есть между правилом рефлексии о них и об их каузальности. До настоящего
времени все это еще мало разработано, хотя безусловно заслуживает более
глубокого исследования; однако здесь не место задерживаться на этом вопросе.
Наш язык полон таких косвенных изображений по аналогии, вследствие чего
выражение содержит не подлинную схему для понятия, а лишь символ для рефлексии.
Такие слова, как основание (опора, базис), зависеть (быть поддерживаемым
сверху), из чего вытекает (вместо следует), субстанция (по выражению Локка,
носитель акциденций), и бесчисленное множество других суть не схематические, а
символические гипотипозы и выражения для понятий, причем воспринимаются они не
посредством прямого созерцания, а лишь по аналогии с ним, то есть посредством перенесения
рефлексии о предмете созерцания на совсем другое понятие, которому созерцание,
вероятно, никогда не сможет прямо соответствовать. Если способ представления
можно уже назвать познанием (что дозволено, если он не есть принцип
теоретического определения предмета, — того,
что он есть сам по себе, а определения практического — того, чем его идея
должна стать для нас и для ее целесообразного применения), то все наше познание
Бога лишь символично, и тот, кто воспринимает его схематически, то есть
наделяет Бога такими свойствами, как рассудок, воля и т. д., свойствами,
объективная реальность которых может быть доказана лишь для существ мира, впадает
в антропоморфизм, так же как в том случае, если он устраняет все интуитивное,
он впадает в деизм, который вообще не допускает никакого, даже практического
познания.
Итак, я утверждаю:
прекрасное есть символ нравственно доброго ; и только поэтому (потому, что
такое отношение естественно для каждого, и каждый человек ждет этого как
исполнения долга от другого) оно нравится и притязает на согласие другого; при
этом душа осознает известное облагораживание и возвышение над простой восприимчивостью
удовольствия от чувственных впечатлений и судит о достоинстве других по сходной
максиме своей способности суждения. Это и есть то умопостигаемое, к которому
стремится вкус, как было указано в предыдущем параграфе, именно то, для чего
согласуются наши высшие познавательные способности и без чего между их природой
и притязаниями вкуса возникали бы сплошные противоречия. В этой своей
способности способность суждения не подчинена, как в эмпирическом суждении, гетерономии
законов опыта; по отношению к предметам такого чистого благорасположения она
сама устанавливает для себя законы, подобно тому как это делает разум по отношению
к способности желания; и вследствие этой внутренней возможности в субъекте, а
также внешней возможности согласующейся
с этим природы, она соотносится с чем-то в самом субъекте и вне его, что не
есть ни природа, ни свобода, но все-таки связано с основой свободы, со
сверхчувственным, в котором теоретическая способность соединена воедино с
практической общим не известным способом. Укажем на некоторые моменты этой аналогии,
отмечая одновременно их различие.
1) Прекрасное нравится непосредственно (но
только в
рефлектирующем
созерцании, а не, как нравственность,
в понятии).
2) Оно нравится без всякого интереса
(нравственно
доброе связано с интересом,
но не с таким, который
предшествует суждению о
благорасположении, а с таким,
который этим
благорасположением вызывается).
3) Свобода воображения (следовательно,
чувственности
нашей способности)
представляется в суждении о прекрас¬
ном как согласующаяся с
закономерностью рассудка (в
моральном суждении
свобода воли мыслится как ее со¬
гласие с самой собой по
общим законам разума).
4) Субъективный принцип суждения о
прекрасном
представляется как
всеобщий, то есть значимый для каж¬
дого, но не
обозначенный общим понятием (объективный
принцип моральности
также объявляется всеобщим, то
есть значимым для всех
субъектов, равно как и для всех
поступков единичного
субъекта, и при этом обозначается
общим понятием).
Поэтому моральное суждение не только
способно к определенным
конститутивным принципам, но
и возможно только
благодаря тому, что максимы основаны
на этих принципах и их
всеобщности.
Эта аналогия доступна и
обыденному рассудку, и мы часто применяем к прекрасным предметам природы или искусства
названия, в основе которых как будто лежит нравственная оценка. Здания и
деревья мы называем величественными и великолепными, поля — смеющимися и радостными;
даже цвета называют невинными, скромными, нежными, так как они вызывают
ощущения, в которых содержится нечто аналогичное сознанию душевного состояния,
вызванного моральными суждениями. Вкус как быделает возможным без слишком
резкого скачка переход от чувственного очарования к обычному моральному интересу,
представляя воображение и в его свободе как целесообразно определимое для
рассудка и приучая находить свободное удовлетворение в предметах, даже лишенных
чувственного очарования.
|