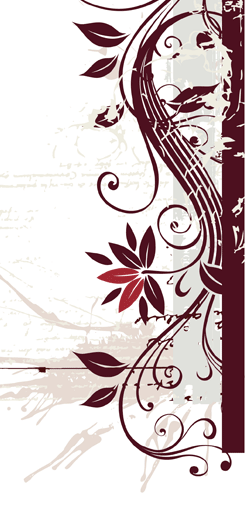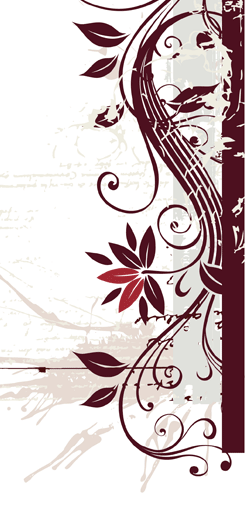|
Если
"постмодерн" был ключевым понятием, содержащим радикальную
диагностику времени и поэтому центрировавшим дискуссии по основным вопросам
социогуманитарного знания в 80-е годы, то в 90-е годы на подобный статус по
праву претендует "глобализация". Этот расхожий термин используется
для обозначения различных и не всегда непосредственно связанных между собой
явлений: сверхбыстрого развития электронной коммерции, скоординированности
финансовых рынков, развития наднациональных организаций, глобального трансфера
вкусов, а то и просто утверждения глобального доминирования США, ставших после
краха Советского Союза единственной сверхдержавой. Речь идет о комплексе
процессов, представляющем первостепенный теоретический интерес. Этот феномен,
требуя глубокого пересмотра целого ряда представлений о социальной жизни,
казавшихся самоочевидными, бросает серьезный вызов современной социальной
теории. Осмысление феномена глобализации также привело к дивергенции в
социологии: одна версия, представленная, прежде всего, Гидденсом, изображает
глобализацию, переживаемую в настоящее время, лишь как более интенсивную
реализацию тех тенденций, которые были уже изначально заложены в самой природе
модерна. Глобализация, таким образом, предстает как сегодняшняя фаза
развертывания единого и универсального "проекта модерна". В рамках
альтернативной версии, предложенной Р. Робертсоном, выдвигается тезис о
формировании глобалистского измерения человеческого сознания, позволяющего
рассматривать социальные процессы в глобальной системе координат и радикально
меняющего образ модерна. По Р. Робертсону, не глобализация представляет собой
одно из "следствий модерна", а само возникновение модерных обществ
может быть правильно понято лишь на основе идеи глобального характера
социальной жизни, уходящего своими корнями во времена, далеко предшествующие
модерну. Иными словами, возникновение модерна на Западе должно рассматриваться,
в первую очередь, не как продукт внутренней истории самого Запада (так или иначе
трактуемого перехода от "общности" к "обществу"), а как
результат взаимодействия (военно-политического, колонизаторского,
торгово-технологического, культурно-религиозного и т. п.) Запада с остальным
миром. Развертывание этого подхода к проблеме глобализации приводит к идее
"глобальных модерностей" (global modernities), то есть принципиальной
множественности проектов модернизации социальной жизни, возможно, существенно
отличающихся от западного образца. Тогда образ единого и универсального модерна,
развертывание которого определяется лишь его внутренней логикой, предстает как
этноцентрическая по своему характеру идеологическая видимость, навязываемая
фактическим доминированием Запада и легализуемая социальными науками.
Глобализация же возвещает завершение символической монополии западного модерна.
Перекличка с постмодернистской теорией не случайна: последняя может
реинтерпретироваться в глобальной системе координат как радикальная постановка
под вопрос фундаментальных ценностей западной культурной традиции, осуществленная
в замкнутых горизонтах самой этой традиции.
Распад
"организованного модерна", постмодерн и глобализация — так можно
предельно схематично обозначить основные вызовы быстро меняющегося мира, на
которые западная социальная теория отвечала перестройкой категориальных
структур, пересмотром собственных предпосылок, переопределением статуса и задач
теоретического знания. В данной статье мы рассмотрим одну из версий
теоретического описания современного социального мира, предложенную Э.
Гидденсом. В работах 70–80-х годов он развил оригинальную концепцию, названную
им "теорией структурирования". Ее пафос состоял в "снятии"
дилеммы структурного функционализма и "понимающей социологии" и
построении систематической социальной теории на новых основаниях. В работах
конца 80–90-х годов, в значительной мере представляющих собой полемическую
реакцию на постмодернистскую диагностику времени, Э. Гидденс использует
понятийный аппарат теории структурирования для переосмысления модерна. Он
исходит из убеждения, что "переосмысление природы модерна должно быть
тесно взаимосвязано с пересмотром фундаментальных предпосылок социологического
анализа"; современное состояние западных обществ определяется им не как
"постмодерн", а как "поздний (также: высокий или радикализированный)
модерн", одной из основных характеристик которого является глобализация
социальной жизни. Таким образом, в концепции Гидденса интегрируются ключевые
темы современных социально-теоретических дискуссий. В основу своего образа
модерна Гидденс положил идею высокого динамизма социальной жизни, в связи с чем
его концепция может служить образцовым примером социально-научной теории быстро
меняющегося мира.
Осуществленное
Гидденсом переосмысление модерна направляла теория структурирования, которая
хронологически предшествовала концепции "позднего модерна" в качестве
общетеоретического горизонта. Преодолевая рамки "сильного" понятия
общества, Гидденс утверждает аналитическую первичность "социальных
практик" относительно общественных систем: социальная жизнь должна
концептуализироваться по своему существу как сплетение повседневных практик. На
элементарном уровне она представляет собой непрерывность существования
индивидуумов в конкретных контекстах. Большая часть жизнедеятельности людей
состоит из привычных действий, рутинный характер которых позволяет объяснить
практическую природу социальных структур. Упорядоченность практик является
имманентной: она порождается не включенностью человеческого действия в
макросоциальный порядок, а его рутинизацией в среде повседневности благодаря
схемам практического сознания и наличному распределению ресурсов. Таким
образом, Гидденс принципиально отказывается от идеи предположенного
макросоциального институционального порядка и пытается теоретически
реконструировать производство и воспроизводство множественных порядков
социальными практиками в среде повседневности. Упорядоченные практики
конституируют социальные системы и, в частности, общества, которые утрачивают у
Гидденса свой фундаментальный характер и уподобляются барельефам, выступающим
над бесконечно сложным сплетением практик. По Гидденсу, социальные системы
представляют собой общества или социетальные тотальности, если они
удовлетворяют следующим критериям: а) ассоциация социальной системы с
определенной "территорией обитания"; б) наличие легитимированных
прерогатив относительно занимаемого пространства (особенно на использование
материальной окружающей среды для получения еды, питья и крова); в)
институциональная кластеризация практик среди участников в социальной системе;
г) общее сознание (как дискурсивное, так и непосредственно практическое)
принадлежности к инклюзивному сообществу с определенной идентичностью.
Стремясь
очистить социальную теорию от организмических интуиций, Гидденс отказывается от
понятия общественной дифференциации, которое в социологической традиции имело
фундаментальное значение как для анализа современных обществ, так и для
реконструкции социально-исторического развития, представлявшегося как эволюция
от "примитивных" к "развитым" (то есть дифференцированным)
обществам. Именно концепция общественной дифференциации была одним из
конститутивных элементов "сильного" понятия общества: благодаря ей
"общество" в дескриптивном плане оказывалось абсолютной системой
отсчета, отнесение к которой позволяло идентифицировать любой социальный
феномен. Достигалось это при помощи понятий, представляющих собой производные
"общества": "подсистема", "уровень",
"слой", "класс", "субкультура" и т. п. Определить
действительное социальное содержание того или иного явления значило определить
его координаты в дифференцированной общественной системе. Далее,
воспроизводство общественного целого выступало в качестве основополагающего
объяснительного принципа: определение функциональной нагрузки того или иного
элемента в рамках общественной системы являлось способом объяснения как его
существования, так и динамики; само же общество при этом понималось как causa
sui. Гидденс предлагает в качестве замены понятия общественной дифференциации
понятие пространственно-временной дистанциации (distanciation), введение
которого, по его мнению, предполагает существенное расхождение с
социологической традицией. Обычно время и пространство рассматривались в
социальном анализе как "вместилища", в которых функционирует
общественная система. Временные и пространственные характеристики социальной
жизни не только не включались в теоретическое изображение общества, но и
разделялись, относясь к областям дисциплинарной компетенции, соответственно,
истории и географии. "Не существует никаких универсальных социологических
законов, независимых от времени и места, — замечает Гидденс, — все
социологические генерализации правомерны в пределах определенных исторических
контекстов". Понятие пространственно-временной дистанциации позволяет
по-новому концептуализировать феномен институциональных порядков: любая
социальная система "растягивается" (stretches) в пространстве и
времени, определенным образом связывая удаленных участников интеракции, и
проблема порядка в социальной теории состоит в том, как социальные системы
осваивают время и пространство. Отсюда следует, что общества различаются не
степенью дифференциации, а формой и масштабом пространственно-временной
дистанциации.
Таким
образом, в рамках "теории структурирования" Гидденс предлагает
понятийный инструментарий, порывающий с "идеей общества" и, тем не
менее, позволяющий построить теоретический образ социальной жизни. В
соответствии с этим образом социальная материя образована сложным сплетением
повседневных практик, размещенных в пространстве и времени и генерирующих
множественность социальных систем, анализ которых ведется в терминах
пространственно-временной дистанциации. Лейтмотивом "теории
структурирования" является идея имманентности институциональных порядков
повседневным практикам, закрепленная в постулате "дуальности
структуры", в соответствии с которым структуры являются как
объективированным продуктом социальных практик, так и медиумом, организующим
повседневную жизнь людей. Это значит, что социальный анализ, начинающийся как
вполне объективный анализ институциональных форм, должен вести к реконструкции
определяемых ими особенностей непосредственного опыта людей, который в
результате предстает как неразрывное единство объективного и субъективного
аспектов.
Однако
вся проделанная Гидденсом теоретическая работа оказалась поставленной под
вопрос постмодернистскими концепциями, в соответствии с которыми универсальные
теории социальной жизни, являвшиеся одним из проявлений отличавшей модерный
разум "тоталитарности", как таковые вообще становятся анахронизмом в
постмодерные времена, вызывающие к жизни уже иные формы репрезентации.
Соответственно, для того чтобы отстоять свое право на теоретическое
существование, Гидденсу потребовалось так модифицировать образ модерна, чтобы в
него можно было вписать и те феномены, которые послужили почвой для
постмодернистской диагностики времени. В этом смысле концепция "позднего
модерна" представляет собой форму дальнейшего развития и одновременно
средство самообоснования "теории структурирования". Солидаризируясь с
Хабермасом и Турэном, Гидденс считает постмодернистскую критику по существу
некорректной, поскольку ее представители находятся во власти тех же
унаследованных от Просвещения предрассудков, что и прежние модернисты. Отсюда
следует, что основные постмодернистские констатации представляют собой лишь
превратное выражение нового образа модерна, корректное построение которого
требует пересмотра ряда идейных иллюзий Просвещения при сохранении его
рационалистического духа.
В
частности, заявляемый постмодернистами антифундаментализм в эпистемологии лишь
помогает правильнее понять суть рефлексивности, внутренне присущей модерну с
самого начала и до настоящего времени. Отождествление роста знания о социальных
процессах с ростом контроля над ними было одним из основных элементов того
наследия провиденциализма, от которого еще не избавилось наивное Просвещение.
Рефлексивность, отличающая модерный тип социальной жизни, в действительности
заключается в том, что социальные практики постоянно критически оцениваются и
трансформируются в свете нового знания, выступающего в самых разных формах
(включая социологическое знание). Но выставлять, исходя из этого, пугало
"тоталитарного разума" нет никаких оснований, поскольку, во-первых,
рефлексивность релятивизирует любое наличное знание как принципиально открытое
для пересмотра: "Модерная рефлексивность в действительности подрывает
разум по крайней мере там, где разум понимается как получение достоверного
знания. (...) Мы живем в мире, организованном рефлексивно применяемым знанием,
но, в то же время, мы не можем быть абсолютно уверены ни в каком элементе
наличного знания". Во-вторых, безостановочный рефлексивный пересмотр
наличных практик задает высокий темп социальных изменений с непреднамеренными
последствиями, так что рост рефлексивности социальной жизни вовсе не означает
роста ее подконтрольности: увеличение знания о социальном мире парадоксальным
образом оборачивается уменьшением его предсказуемости.
Далее,
наряду с развенчанием фундаментализма в эпистемологии постмодернистская теория
провозглашает наступление "конца Истории". Однако этот тезис является
лишь превратно выраженной констатацией изжитости телеологической модели
истории, восходящей к христианскому историзму и нашедшей свое деистическое
воплощение в просветительской идее грядущего "царства разума" как
конечного результата всемирно-исторического прогресса человеческого рода.
Критическое
переосмысление модерна предполагает профанирующее "снижение" идеи
прогресса, закономерно ведущего к так или иначе трактуемому "светлому
будущему", до идеи непрерывного изменения: историчность, характерная для
модерного типа социальной жизни, обращает людей к будущему, которое понимается
как принципиально открытое и непредопределенное.
Наконец,
постмодернистская теория, констатируя растворение человеческой личности
фрагментирующим характером сегодняшнего социального опыта, провозглашает
"смерть субъекта". Однако данный тезис представляет собой лишь
искаженное осознание того, что личностная идентичность не является естественной
данностью, а имеет социальную конституцию. При этом не следует рассматривать
личность лишь как точку пересечения внешних социальных воздействий и забывать о
том, что процессы массового рефлексивного формирования людьми собственной
идентичности стали возможны именно благодаря модерну. Таким образом, резюмирует
Гидденс, разрыв с рядом иллюзий наивного Просвещения, превратным выражением
которого была постмодернистская теория, вполне может восприниматься как
дальнейшее самопрояснение модерной мысли. А это обстоятельство позволяет утверждать,
что мы не только не вышли за пределы модерна, но, напротив, являемся
свидетелями радикализации его принципов. Развернутой демонстрацией данного
тезиса и является концепция модерна, развитая Гидденсом.
Действуя
в горизонте теории структурирования, Гидденс осуществляет, прежде всего,
институциональный анализ модерна в терминах пространственно-временной
дистанциации; тем самым он осознанно помещает себя в методологическую оппозицию
к постмодернистской теории, которой присущ культуралистский уклон. Принципиальной
чертой предложенного Гидденсом концептуального образа является
институциональная многомерность модерна: последний характеризуется четырьмя
взаимосвязанными, но не сводимыми друг к другу "институциональными
осями". Первая — это индустриализм, который определяется Гидденсом
как система социальных отношений, основанных на широкомасштабном использовании
материальной силы и машинерии в производственных процессах. Вторым
институциональным измерением модерна является капитализм, то есть система производства
товаров, основанная на конкурентных рынках продукции и на коммодификации
рабочей силы. Третью ось образуют институты надзора (surveillance), являющегося
основой существенного роста организационной власти, отличающей модерный тип
социальной жизни. Выделение этого аспекта вызвано тем, что некоторые
существенные характеристики модерного государства должны объясняться независимо
от природы капитализма и индустриализма. В частности, его административную
систему следует рассматривать именно в терминах контроля над населением,
осуществляемого на основе сбора и использования информации. Наконец, четвертое
институциональное измерение охватывает формы монопольного контроля модерного
государства над средствами насилия в пределах своих четко определенных территориальных
границ.
Идея
институциональной многомерности модерна представляет собой еще одну попытку
Гидденса деконструировать "сильное" понятие общества как
"анонимную предпосылку" прежней социальной теории. Социология,
отмечает он, традиционно определялась как изучение человеческих обществ, при
этом "общество" всегда понималось по образцу нации-государства
(nation-state) — специфического образования, которое характерно только для
эпохи модерна и природа которого обычно оставалась вне рассмотрения. Следуя
Гидденсу, можно сказать, что в результате такой молчаливой подстановки
институциональный анализ модерного типа социальной жизни вписывался в узкие
рамки понятий капиталистического или индустриального общества, ущербность
которых состоит, во-первых, в том, что реалии нации-государства, стоящие за
мнимой самопонятностью идеи общества, никак не сводятся к капитализму или
индустриализму, а во-вторых, в том, что эти понятия порождали фиктивные образы
"докапиталистических" или "доиндустриальных" обществ.
Проводимая Гидденсом идея принципиальной многомерности модерных институтов
демонстрирует сложную природу нации-государства, представляющего собой продукт
случайной констелляции множества исторических процессов и обстоятельств, и тем
самым открывает возможность высвобождения концепции модерна из прокрустова ложа
"сильного" понятия общества.
Гидденс
подчеркивает, что самой очевидной отличительной характеристикой модерного типа
социальной жизни является ее динамизм, беспрецедентный как по темпу изменений,
так и по их масштабу и глубине: модерный мир воистину является миром с
"отказавшими тормозами". Исключительно динамичный характер модерной
жизни объясняется Гидденсом следующими тремя взаимосвязанными факторами. Первым
из них является "разделение времени и пространства" (separation of
time and space). Известно, что и в предшествующих социальных системах
существовали развитые системы исчисления времени и стандартизированной
маркировки пространства, однако при этом время и пространство оставались
существенно связанными посредством того или иного "локуса" действия:
пространственно-временные характеристики действия были здесь органически
связаны с самой конкретной "субстанцией" социальных практик.
Отличающее модерн разделение пространства и времени предполагает прежде всего
образование измерения "пустого" времени, эмблемой которого являются
механические часы. "Опустошение времени" является условием и
предпосылкой "опустошения пространства": темпоральная координация
социальных практик является основой контроля над пространством. Социальное
утверждение пустого пространства интерпретируется Гидденсом в терминах
отделения социальных отношений от "локуса" благодаря развитию связей
с "отсутствующими" другими. В условиях модерна "локусы" все
в большей мере становятся фантасмагорическими: они пронизываются и формируются
социальными влияниями большого масштаба, их "видимая форма" скрывает
дистанциированные отношения, определяющие их действительное социальное
содержание. Опустошение времени и пространства — не линейный, а диалектический
процесс, включающий рекомбинацию пространства и времени, которая позволяет
координировать социальную деятельность вне привязок к локальным контекстам
действия. Модерная социальная организация предполагает точную координацию
действий многих людей, значительно удаленных друг от друга в пространстве и
времени; при этом временные и пространственные характеристики действия
существенно связаны, но уже не через посредство места.
Процесс
опустошения пространства и времени имеет решающее значение для второго
ключевого фактора модерного динамизма — "открепления"
(disembedding) социальных институтов, означающего "отрыв"
("lifting out") социальных отношений от локальных контекстов и их
реструктурирование на сколь угодно больших отрезках пространства и времени.
Именно подобный отрыв вызывает беспрецедентное ускорение
пространственно-временной дистанциации в эпоху модерна. Гидденс выделяет два
основных механизма "открепления": "символические значки"
(symbolic tokens) и экспертные системы, представляющие собой две основные разновидности
"абстрактных систем". "Символические значки" являются
средствами обмена, обладающими стандартной ценностью и благодаря этому
способные циркулировать в неопределенно большом множестве практических
контекстов. Прежде всего, это деньги, заключающие в скобки время (поскольку они
являются средством кредита) и пространство (поскольку их стандартизированная
ценность позволяет осуществлять трансакции между множеством индивидуумов,
которые, вполне возможно, лицом к лицу вообще никогда не встретятся). Экспертные
системы заключают в скобки время и пространство посредством специализированного
знания, обладающего значимостью независимо от личности пользователя. В условиях
модерна абстрактные системы, проникающие во все аспекты социальной жизни,
получают универсальное развитие.
Наконец,
третьим фактором, определяющим беспрецедентный динамизм модерна, является
специфичная для него рефлексивность. В широком смысле слова рефлексивность
представляет собой универсальное свойство человеческого поведения: человек
рутинным образом "в курсе" того, что он делает, и постоянный
"рефлексивный мониторинг поведения" является интегральным моментом
любого человеческого действия. С началом модерна рефлексивность получает особый
характер: рефлексивность модерной социальной жизни состоит, по Гидденсу, в том,
что социальные практики постоянно критически оцениваются и трансформируются в
свете поступающей о них информации. Во всех типах социальных систем практики
изменяются в свете новых знаний, однако только в эпоху модерна пересмотр практических
конвенций осуществляется столь радикально, что прилагается в принципе ко всем
аспектам человеческой жизни. Когда говорят, что модерн характеризует стремление
к новизне, то это, по Гидденсу, не вполне корректно: то, что действительно
специфично для модерна, — это презумпция всеобъемлющей рефлексивности.
Принципиальная
установка Гидденса, заявленная уже в теории структурирования, состоит в том,
что социальное исследование, которое начинается как институциональный анализ,
завершается как теоретическое изображение повседневного социального опыта
людей, имманентная упорядоченность которого воплощена в институциональных
формах. Соответственно, анализ институциональных параметров модерна открывает
дорогу реконструкции экзистенциальных характеристик модерного социального
опыта, зафиксированных в структурах практического сознания. Практическое
сознание, вплетенное в рутины повседневности, в когнитивном и эмоциональном
планах является основным генератором того чувства онтологической безопасности
(ontological security), которое обычно испытывается людьми и антонимом которого
является экзистенциальный ужас, рождаемый столкновением с хаосом (Angst в
смысле Кьеркегора и Хайдеггера). Обладать чувством онтологической безопасности
означает, указывает Гидденс, располагать на уровне непосредственного
практического сознания "ответами" на основные экзистенциальные
вопросы, неизбежно встающие перед каждым человеческим существом: о конечности
человеческой жизни, о сосуществовании с другими, об обеспечении непрерывности
личностной идентичности и др. Ядром этого чувства безопасности является
"базисное доверие" (basic trust), обычно формирующееся у ребенка на
основе отношений с воспитывающими его взрослыми: взаимность с воспитателями
образует исходную бессознательную социальность, ту первичную связь, из которой
впоследствии вырастают сложные эмоционально-когнитивные ориентации индивида в
отношении других людей, вещного мира и самого себя. В дальнейшем переживание
онтологической безопасности формируется и поддерживается механизмами
рутинизации человеческого поведения в среде повседневности, благодаря чему
индивиды от одной ситуации к другой несут на себе своеобразный "защитный
кокон", который обеспечивает чувство "неуязвимости", блокирующее
негативные возможности в пользу позиции надежды. Иными словами, чувство
онтологической безопасности рождает уверенность в том, что на улице первый
встречный не пырнет вас ножом, что водитель затормозит перед переходящим улицу
пешеходом, что в проблемной ситуации в итоге все устроится благоприятным
образом, хотя обратное в этих и всех других подобных случаях никоим образом не
исключено.
|