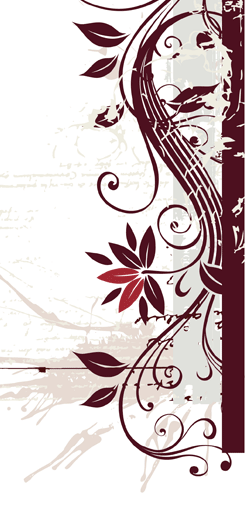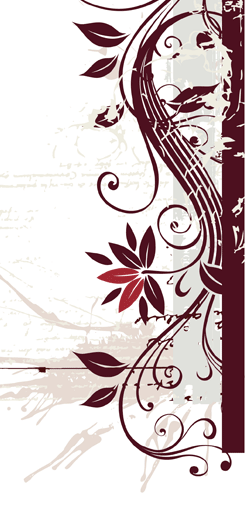|
Говоря о генетическом структурализме П. Бурдье, нам
следует обратиться к триаде
"поле” — "капитал” — "габитус” , вокруг которых выстраивается его система,
включающая целый арсенал взаимосвязанных и
соопределяющихся понятий, дающих
возможность обращаться к анализу самых разнообразных
социальных явлений. Генезис этого
подхода, уже в силу самих его основополагающих
принципов, требует рассмотрения, хотя бы
в самом общем виде,
той интеллектуальной и социальной ситуации во Франции, которая
составляла условия возможности становления П. Бурдье
как ученого. В пятидесятые-
шестидесятые годы XX века во французской философии
наиболее выпукло были представлены
три влиятельных направления: феноменолого-экзистенциализм (объединявший
"Феноменологию духа” Г.В.Ф. Гегеля и феноменологию
Э. Гуссерля, Ф. Ницше и С. Кьеркегора,
М. Мерло-Понти и М. Хайдеггера, проводниками которых в университетской среде
были
Ж. Валь, А.
Кожев и Ж. Ипполит), структурализм и
марксизм. Под влияние феноменолого-
экзистенциализма в пятидесятые годы попали
многообещающие молодые философы:
М. Фуко,
Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида. Именно в этом философском контексте следует
рассматривать становление социологической теории П.
Бурдье. Многие социологи (по
большей части,
преподаватели) находят истоки его
вдохновения в трудах К. Маркса,
М. Вебера, Э. Дюркгейма и Э. Кассирера. Это, несомненно,
не лишено основания, но все же
представляет собой весьма упрощенный взгляд, ограниченный университетской программой
[18—21].
Безусловно, можно
проследить, как истоки генетического
структурализма
восходят к классикам, но это не означает, что он исчерпывается комбинацией положений,
принадлежащих классикам. П. Бурдье впитал и преодолел, буквально подверг "снятию” (в
гегельянском смысле этого слова) многие социологические и философские течения
XX века,
поскольку они возбуждали его неподдельный
интерес, и поскольку ни одно из них не
могло
1
1
От лат. habitus — свойство, состояние, положение.
1 полностью его удовлетворить. Отношение П. Бурдье к
современным направлениям философии
и социологии,
а также интеллектуальная атмосфера во Франции в середине XX века
последовательно раскрыта им в книге "Паскалевские размышления” [12]. Здесь мы
находим
личностные ответы на вопросы о взаимодействии
философии и социологии, а также
квинтэссенцию интроспективного социоанализа, развиваемого в более ранних работах
обобщающего характера: "Вопросы социологии” [17],
"Начала” [1], "Ответы” [16],
"Практические доводы” [14]. Подобного рода рефлексия над истоками и
основаниями
собственных работ и,
в частности, анализ сходства и
различий своей позиции с взглядами
Л. Альтюссера,
Л. Витгенштейна, Г.
Гарфинкеля, И. Гофмана, Ж. Делеза,
Э. Кассирера,
К. Леви-Строса,
Т. Парсонса, Ж.-П. Сартра, М. Фуко,
Ю. Хабермаса, А. Шюца, Н. Элиаса,
представляет особый интерес. Он помогает читателю
контекстуализировать генетический
структурализм,
объективировать условия его становления.
Глубокое освоение, разрыв и
преодоление — вот основные механизмы, приведшие П.
Бурдье к формированию собственного
"синтетического” направления, названного
впоследствии "генетическим
структурализмом”.
"С помощью структурализма я хочу сказать, что в самом социальном мире, а не только в
символике,
языке, мифах и т. п. существуют объективные структуры, независимые от
сознания и воли агентов, способные направлять или подавлять их
практики или
представления. С помощью конструктивизма я хочу
показать, что существует социальный
генезис, с
одной стороны, схем восприятия, мышления и действия, которые являются
составными частями того, что я называю габитусом, а с другой стороны, — социальных
структур и, в частности, того, что я называю полями
или группами, и что обычно называют
социальными классами” [1, с. 181—182].
2
Общие принципы структурно-генетического анализа
Опыт антропологических и социологических
исследований привел П. Бурдье к выводу,
что операции разрыва с повседневным опытом и
построения объективных связей чреваты
опасностью придания им статуса реально существующих
вещей, возникших помимо
индивидуальной или групповой истории. Отсюда тезис о
необходимости борьбы с реализмом
структуры и с жестким детерминизмом, постулирующим
полную зависимость индивида от
объективных социальных отношений. С другой стороны, субъективизм,
индивидуалистическая тенденция рассмотрения человека
лишь как совокупности
своеобразных личностных характеристик (рациональный выбор, вкус,
способности, пороки,
стремления и проч.),
примат свободы субъекта,
отрицание общественных детерминаций и
т. п.,
представляет, по мнению П.
Бурдье, не меньшую опасность для
социальной науки. Он
считает, что
только обращение к практике — к
этому "диалектическому месту opus
operatum и
modus operandi — объективированным и
инкорпорированным продуктам
2
Французское название этой книги "Raisons
pratiques” несомненно
перекликается с названием работы И. Канта "Критика чистого разума” и
могло бы быть переведено как "Практический разум”, однако,
поскольку
П. Бурдье использует множественное число, то здесь вступают в игру иные
значения слова "raisons” — основания, доводы.
2 практической истории, структурам и габитусам”
позволяет уйти от "неизбежного” выбора
между объективизмом и субъективизмом [2, с. 66].
Социальная действительность, по П. Бурдье структурирована дважды. Во-первых,
существует первичное или объективное
структурирование — социальными
отношениями.
Эти отношения опредмечены в распределениях
разнообразных ресурсов (выступающих
структурами господства — капиталами)
как материального, так и
нематериального
характера.
Во-вторых, социальная
действительность структурирована представлениями
агентов об этих отношениях, о различных общественных
структурах и о социальном мире в
целом, которые оказывают обратное воздействие на
первичное структурирование. Указанная
диалектика отражает процесс
интериоризации/экстериоризации, связывающий объективные
и субъективные
(инкорпорированные) структуры. Социальные отношения, интериоризируясь
в процессе осуществления практик, превращаются в практические схемы — схемы
производства практик. Такие инкорпорированные структуры
обусловливают
экстериоризацию,
т. е. воспроизводство посредством
практик агентов, породивших их
объективных социальных структур. Способность агентов спонтанно ориентироваться
в
социальном пространстве и более или менее адекватно
реагировать на события и ситуации,
способность, складывающаяся в результате огромной
работы по образованию и воспитанию
в процессе социализации, кристаллизуется в определенный, соответствующий социальным
условиям становления индивида, тип габитуса3.
Рассмотрение природы различных благ, которые
индивиды ставят на карту в борьбе
за занятие определенной позиции в поле, привело П.
Бурдье к выводу, что за всем богатством
и разнообразием ставок скрываются три большие
группы, три категории капиталов.
Экономический капитал — обладание материальными
благами, к которым, исходя из их роли
всеобщего эквивалента любого товара, можно отнести деньги, помогающие занять
преимущественное место в поле, а также и любой товар
в широком понимании этого слова.
Культурный капитал —
образование (общее, профессиональное, специальное)
и
соответствующий диплом, а также тот культурный уровень индивида, который ему
достался в наследство от его семьи и усвоен в
процессе социализации. Социальный капитал —
ресурсы,
связанные с принадлежностью к группе:
сеть мобилизующихся связей,
которыми
нельзя воспользоваться иначе, как через посредство группы, обладающей
определенной
властью и способной оказать "услугу за услугу” (семья, друзья,
церковь, ассоциация,
спортивный или культурный клуб и т. п.). Символический капитал — разновидность
социального,
связан с обладанием определенным авторитетом, репутацией;
это капитал
признания группой равных и внешними инстанциями (публикой).
Распределение капиталов
между агентами проявляется как распределение власти
и влияния в этом пространстве.
Позиции агентов в социальном пространстве
определяются объемом и структурой их
капиталов. Экономический и культурный капиталы
являются источниками власти для тех,
кто ими обладает персонально, что дает агенту власть над теми, у кого этого капитала
3
|